Балтия – СНГ, Книга, Латвия, Прямая речь
Балтийский курс. Новости и аналитика
Среда, 15.01.2025, 02:16
По поводу новой книги Владимира Гоя «Лживый роман»
 версия для печати
версия для печати |
|---|
| Никита Скородум на презентации романа В. Гоя «Лживый роман». Рига, 27.01.2012. |
Великий классик немецкой литературы Иоганн Вольфганг Гете назвал книгу своих воспоминаний «Поэзия и правда». Это зрелое произведение стареющего мастера названо так, естественно, не случайно. Поэзия играет в нашей жизни гораздо большую роль, чем обычно полагают, она пронизывает собой «Правду» со всеми ее «страхами и мглами» (говоря словами Тютчева), служит ее основой. Причем это совсем не «златотканый покров, наброшенный на мир таинственный духóв» (говоря словами того же Тютчева), а некая повелительная (нуминозная) сила, принимающая в жизни весьма деятельное и активное участие, как это было в жизни самого Гете, о чем он и повествует.
В новом романе известного рижского писателя В. Гоя читателю предстает пестрый калейдоскоп персонажей из разряда той «всамделишной» «правды», о которой шла речь выше. Сквозящая повсюду ирония автора сделала бы честь самому Хогарту в его графических листах со множеством метко и лаконично обрисованных персонажей. Однако то, что не удалось англичанину, удалось Гою, и вся эта Ярмарка Тщеславия пронизана лучами фантазии и согрета теплом надежды.
Фантазия — далеко не редкий гость в подлунном мире, недаром романтики прочили ей роль вершительницы человеческих судеб. Способность к фантазии служила критерием меры таланта в глазах Каролины — этой законодательницы мод немецкого «серебряного века», когда, как и в соответствующий русский период, дочерям высокопоставленной профессуры было дано право вдохновлять и направлять своих спутников-борзописцев.
 |
|---|
Есть что-то символичное в том, что одна их героинь романа врывается в дом к главному герою и заявляет ему «Ты — мой муз», а затем оказывается в сумасшедшем доме. Нечто похожее уже было в действительности. Упомянутая выше Каролина, которую Вайнингер называет Аспазией нового времени, связала свою судьбу поочередно с целой плеядой корифеев немецкой литературы . Странный феномен: пока она и ее спутник живут вместе, его творческая сила бьет ключом. Как только Каролина уходит, казавшийся неисчерпаемым источник сразу же иссякает. Последним в ряду ее сожителей был великий немецкий философ Шеллинг, от которого она в итоге ушла навсегда (то есть и из жизни тоже), и тогда Шеллинга поразило полное творческое бесплодие, длившееся почти сорок лет. По инерции его продолжают осыпать почестями и наградами, но его перо не в силах написать ни строчки, и голова, ведущая — по саркастическому замечанию Энгельса — тридцатилетнюю войну с мыслью, не способна породить ничего. Перед нами одна тень гения. Еще более гротескным кажется пример другого немецкого сочинителя — Гельдерлина, который, потеряв Сюзетту Гонтард — свою музу, впал в тихое беспросветное безумие.
Слово тень возвращает нас к основной теме Гете, его «Учению о цвете», который, по мысли Гете, есть производное борьбы света и тени, или первозданной тьмы. Само имя главного героя романа — Фарбус — нарицательно и восходит к немецкому слову Farbe — то есть цвету. Не случайно в романе есть и олицетворение темного начала, чьи антилучи не зажигают, а гасят.
Имя Фарбус звучит и на фламандский манер, почти как Порбус — знаменитый художник, выведенный в «Неведомом шедевре» Оноре де Бальзака, который, кстати, и вошел в литературу с почти аналогичной темой: о способности магии влиять на обычное течение событий и поправлять их в нужном для адепта направлении. Можно говорить что угодно: тема — нешуточная и гораздо более актуальная, чем это может показаться на первый взгляд. И автор вносит свою — к тому же немаловажную — лепту в развитие этой темы, принципиально, по мнению романтиков, не решаемую путем чисто научного умозрения. Единственный подход — художественная интуиция.
Неисповедимыми путями автор выступает и продолжателем латышской традиции, развивая тему, начатую в драме Райниса «Огонь и ночь».
Как следствие, перед нами произведение редкого символического жанра, в котором событийный ряд — только фасад истинного сущего.
 |
|---|
| В.Астапчик на презентации своего романа «Лживый роман». Рига, 27.01.2012. |
***
Очень часто случается, что событие преподносится сквозь призму писательского «наигрыша»: сочинителя интересует не событие как таковое, а возможность высказаться или сказать что-либо остроумное по его поводу, по принципу: «Это Я (!) вам рассказываю». В этом смысле у автора есть великое и немаловажное преимущество, редкий дар пластического претворения действительности.
Он, как и Гомер, любуется простыми вещами и описывает, к примеру, как герой спускается в погреб, чтобы принести запотевшее вино. Недаром автора в свое время так поразил Микеланджело с его ярко выраженным пластическим даром. Ведь что такое описание? На первый взгляд, простое средство для запоминания. Но ведь и запоминание, память, мнемотехнику не зря прочат на роль царицы всех наук.
Запечатлевая, писатель дарит событию вторую и уже постоянную жизнь, переводит из чисто субъективной плоскости в нечто объективное, он «впечатывает» событие в слова, хранимые памятью многочисленных носителей языка. Описание «мультископирует» действительность, делая его достоянием миллионов глаз и ушей. У автора, как и у Пушкина, почти нет «красот» ради них самих. Последнее, как бы парадоксально это ни звучало, выгодно отличает его тексты от, например, прозы Мандельштама, чья нарочитая прихотливость утомляет, а, главное, уводит от существа дела, и в этом смысле в авторе живо и деятельно толстовское начало.
В умении подчеркнуть главное — основная сложность описания. Не случайно Оскар Уайльд замечает: «Описать сложнее, чем сделать». Согласимся с этим хотя бы потому, что действующий имеет право на ошибку, а настоящий сочинитель — нет, найденное слово должно быть единственным, уникальным, и только тогда у него есть шанс остаться в вечности. К Конфуцию недаром постоянно обращались с просьбой назвать то или иное явление одним словом. Сколько было подвигов спартанцев! — все они канули в лету, осталась лишь горделиво-лаконичная фраза матери, напутствующей сына словами: «со щитом или на щите».
Реальность, как водится, опережает любые фантазии, самые смелые допущения. За многими построениями автора как бы стоит: «ну уж такого не может быть, не может быть никогда». А еще как может! Автор, к примеру, описывает храм подекситов, поклоняющихся подексу (месту пониже спины). На этот счет история может отослать его к знаменитому в древности храму Афродиты Каллипиги (Прекраснозадой), которой, правда не доставало смены ориентации, но в остальном все было в порядке.
Вообще у автора — как в стиле, так и в отношении к жизни — очень много от Льва Толстого, но, что к лучшему, без его нечеловечески навороченных фраз. По стилю роман ближе к поздним рассказам Толстого (напр., «Фальшивый купон») с их изумительной краткостью и пластичностью. У него совершенно нет «пузырьков» (на мягком месте купающейся красавицы), так возмущавших Льва Николаевича в Мопассане своей ненужностью и ложностью самого направления, уводящего автора в сторону от насущных и жгучих вопросов бытия и человеческого общежития.
 |
|---|
Однако, в отличие от Толстого, который терпеть не мог позднего Гете и
всей его кабалистики, в мозгу автора в изобилии рождаются гностические
идеи. Помимо уже названной аллюзии на «Учение о цвете» Гете
(“Farbenlehre” — Farbus), налицо и гностический миф о падении Софии
(Премудрости Божьей) в материю, а также совершенно явные реминисценции
основополагающей идеи «Шагреневой кожи» Бальзака, восходящей к
«ситуативной магии».
История получения двух миллионов долларов
от Вовки Перцева кажется парафразом программного зачина романа Бальзака:
при виде смятения молодого человека, решившегося таки на отчаянный шаг —
приобретение шагреневой кожи, продавец антиквариата говорит ему
примерно следующее: «Вы, наверно, полагаете, что сейчас произойдет
что-то особенное, небеса разверзнутся, и на вас прольется дождь из даров
свыше. Ничего подобного: ни один из так называемых законов природы не
будет поколеблен. И все же, уверяю вас, через каких-нибудь полчаса вы
станете богаты, как Крез». И действительно, едва покинув лавку
антиквара, герой сталкивается с друзьями, которые радостно сообщают ему,
что решили сделать его главным редактором щедро финансируемой газеты.
И
последнее: каково место автора в русскоязычной традиции фантастического
романа? Я, например, не вижу в «Альтисте Данилове» попытки решения
главных, чисто русских вопросов «Тварь ли я дрожащая?» (Достоевский),
«Почему один беден, а другой — нет?» (Некрасов и др.). Гностическая тема
— просто удобная канва для развертывания ряда эпизодов — как это имеет
место в «Бриллиантовой руке» и в плутовском романе.
А все это (говоря словами Толстого — «нравственное отношение к жизни»), есть у автора.
И это главное.
Фото Юрия Житлухина и БК.





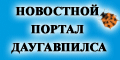


 «Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!
«Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!



